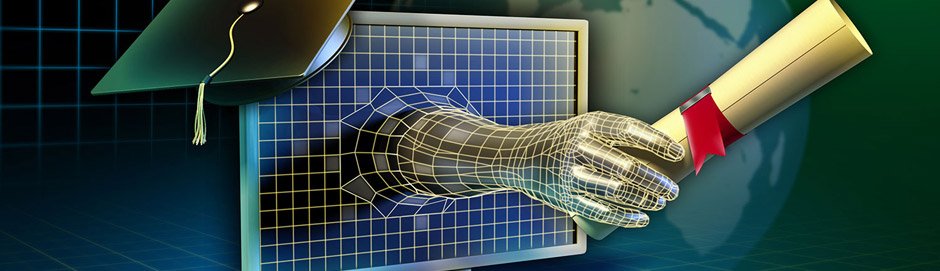Русский символизм и современный модернизм
И.Машбиц-Веров
В книге «Современные проблемы реализма и модернизм» И. И. Анисимов отмечает, что столкновение реализма с различными модернистскими течениями достигло сейчас «крайнего напряжения» и «находится в центре внимания творческой интеллигенции всего мира, является предметом горячей полемики». Выяснение, в этих условиях, связи русского символизма как национального проявления модернизма с модернизмом современного Запада приобретает особое значение.
По общему признанию, центральной проблемой, которая «позволяет определить расстояние между основными потоками современного литературного развития», является «концепция человека»: его сущности, возможностей, свободы. В силу сказанного выяснение философских основ модернизма оказывается первой, важнейшей задачей в этой области. С выяснения философии и эстетики трех важнейших течений современного модернизма — фрейдизма, экзистенциализма и абстракционизма — мы и начнем.
3. Фрейд (1856—1939) получил известность как профессор-невропатолог. Он одним из первых искал пути к лечению истерии, болезни чрезвычайно распространенной в XX веке в Европе. При этом он выдвинул новый метод лечения, так называемый «психоанализ» — способ проникновения в подсознательную сферу человека, в те его первоначальные инстинкты, эмоции, страсти, которые лежат в основе болезни.
По учению Фрейда, сущность человеческой «природы» образует инстинкт самосохранения, который в плане продолжения рода проявляется как половой инстинкт. Из этих двух инстинктов (а заодно—наслаждения «либидо», то есть различными эротическими побуждениями, принимающими часто болезненные формы) и складывается, по Фрейду, неизменная в глубочайших своих истоках «природа» человека. А все то, что вносят в дальнейшее развитие сознания человека история, разум, этика, культура — все это, но сути дела, ничего не меняет. Более того: за духовной культурой человека всегда скрыты те же неизменные инстинкты; культура лишь внешне прикрывает, маскирует природно-неизменное. И даже самые высокие проявления духовного творчества человека (наука, искусство), по Фрейду, — лишь «сублимированная» (переработанная) первоначальная энергия инстинктов; это все те же инстинктивно-сексуальные влечения подсознания, но переведенные на язык символов и творческой фантазии, так как в общественной жизни они не могут проявиться непосредственно: запрещает «цензура» господствующего культурного сознания, требования этики, государства и общества.
Еще в младенчестве, учит Фрейд, ребенок стремится к половому удовлетворению, эгоистическому наслаждению: это инстинктивное проявление «принципа удовольствия». Мальчик при этом находит свой объект наслаждения в матери (корни «инцеста», т. е. кровосмешения), ревнует ее к отцу и желает ему гибели. То же — но уже в ревности к матери — обнаруживается у девочки. Это и есть начальный комплекс человеческого сознания (вернее — подсознания), названный Фрейдом «Эдиповым комплексом» (Фрейд исходит здесь из известных трагедий Софокла, в сюжетной основе которых заложен миф о сожительстве Эдипа с матерью). Первоначальные инстинкты в условиях позднейшего, культурного сознания не могут открыто проявляться, как аморальные; их приходится поэтому заглушать; но они прорываются в «символической» форме в науке, религии, искусстве, в различных социальных явлениях.
Не вдаваясь в детали учения Фрейда, которое, не ограничиваясь невропатологией, превратилось в философию о сущности человеческой «природы», выясним, к чему эта концепция приводит в области искусства.
В искусстве, по Фрейду, созданные художником образы «мирно» вытесняют запрещенные изначальные сексуальные стремления, тем самым спасая художника от извращений (и возникающих на этой почве неврозов). В работе о Леонардо да Винчи, например, Фрейд объясняет его творчество как процесс «вытеснения» и «изжития» сексуальных привязанностей к своей матери посредством изображаемых «смеющихся женских головок», позднее — Монны Лизы (Джоконды).
С этих же позиций трактует Фрейд и произведения литературные.
Так, он считает, что «было бы вполне в духе поэтической справедливости» видеть смысл трагедии «Леди Макбет» не в социальной проблематике, а в борьбе тех же извечных природных инстинктов. И тогда «глубочайший мотив» трагедии выясняется в восклицании Макдуффа «Макбет бездетен!», а «вся трагедия окажется пронизанной указаниями на связь с комплексом детско-родительских отношений». Иначе говоря, все произведение оказывается борьбой за продолжение рода, когда герои переходят «за грани природы», совершая бесконечную цепь преступлений. А в этом свете, «убивая Банко, Макбет убивает отца» будущих основателей династии, наследующей бездетного Макбета; дети Макдуффа убиваются как дети будущего «мстителя»; «превращение святотатственной гордыни леди Макбет в раскаяние» — это «реакция на бездетность, которая убедила ее в ее бессилии перед законами природы»; «убийство доброго Дункана мало отличается от отцеубийства».
Борьбу тех же инстинктов видит Фрейд и в известной пьесе Ибсена «Росмерсгольм». Духовную эволюцию героини этой пьесы — Ребекки Вест Фрейд объясняет не социально-историческими условиями, нарисованными Ибсеном, и не тем даже, что «было понято ею самой в ее внутренних изменениях», а тем, что находится за сознанием героев, в изначальных и неизменных инстинктах: «Ребекка находилась под властью Эдипова комплекса».
Характерно в связи с этим и следующее замечание Фрейда: «Психоаналитическая работа выясняет, что силы совести... интимно связаны с Эдиповым комплексом, с отношением к отцу и матери, как может быть, и вообще все наши чувства».
Много писал об искусстве известный фрейдист О. Ранк, на которого неоднократно ссылается Фрейд. У него фрейдистская концепция искусства предстает более отчетливо. И вот выясняется, что не только «вообще все наши чувства», но и вся культура человечества возникает из инцеста. «Начало подлинной культуры должно быть социологически отнесено, — пишет Ранк, — к моменту воздвижения известных преград для инцеста». Ибо «с этого момента примитивные инстинкты со всеми с ними связанными комплексами чувств подвергаются вытеснению» и появляется «стремление к осуществлению этих детских желаний в фантазии». А отсюда уже, посредством сублимации этих переживаний, рождаются «миф, религия, художественное творчество». Художник, в силу сказанного, оказывается воплощением не прогрессивных, а регрессивных начал человечества. «Художник, — пишет Ранк, —несмотря на свою высокую интеллектуальную способность сублимации... онтогенетически и филогенетически, с точки зрения прогресса человеческого рода, — возврат назад, остановка на инфантильной стадии».
А вот конкретный пример такой трактовки произведения искусства, которая превращает его в воплощение психологии инфантильного человека и в своеобразное оправдание этой инфантильности. Речь идет о «Гамлете» Шекспира. Приводим характеристику ранковского Гамлета, данную профессором В. М. Фриче: «Гамлет Ранка — тип сексуальный, он сексуально привязан к матери, если он любит отца, то только поскольку действует сознание, в подсознательном же у него вражда к нему и желание его устранить. Он узнает, что отец его убит, — желание его исполнилось. По обычаю кровной мести он должен отомстить убийце, он должен убить дядю — и не в состоянии: он может заколоть Полония (по пьесе он думал, что это дядя), может отправить на тот свет Розенкранца и Гильденштерна, но не дядю. Почему? Потому, что он не считает себя вправе убить человека за то, что сам хотел сделать (в подсознательном). Его меланхолия от его сексуальности, от его привязанности к матери, от его подсознательной вражды к отцу, от невозможности казнить дядю за то, что сам хотел сделать. Исчез Гамлет с его сомнениями, с его колебаниями между религией и пантеизмом, его ненавистью к подлому придворному миру, — остался дротик — жертва Эдипова комплекса».
Приведенные примеры достаточно говорят о том, что представляет собой фрейдистское осмысление искусства, фрейдистская эстетика. Художник и созданные им персонажи рассматриваются вне истории, социальной борьбы, конкретной действительности, духовной жизни эпохи и воспринимаются как выразитеми неизменных «природных», атавистических (прежде всего — половых) инстинктов.
Тем не менее фрейдизм оказал и оказывает огромное влияние на искусство: литературу, драматургию, кино. «Фрейдизм, — считает И. И. Анисимов, — безраздельно властвовал в литературе на протяжении десятилетий». Артур Миллер, известный драматург, отмечает как характерную черту послевоенного американского театра «чрезмерную увлеченность сексуальностью, атмосферу жестокости, романтизированной неврастении, трансформации внешних конфликтов в душевную борьбу одиночки; причем есть тенденция все разновидности конфликтов сводить к сексуальному».
Учение Фрейда модернисты используют в разных аспектах, но всегда в единстве с отчетливо выраженными реакционными устремлениями. В этом учении они нашли много таких положении, которые дают им возможность под видом «новейшей науки» и художественного «новаторства» активно противопоставить себя революционной демократии и реалистическому искусству, а в философском плане — материализму. Оно дает им возможность утверждать бессилие разума, господство иррационального, господство в области душевных переживаний первоначальных инстинктов, эмоций, стремлений.
Подсознание у Фрейда непосредственно связано с господством эгоизма, эгоистических наслаждений. А это дает модернистам возможность выдавать за подлинное и «новаторское» раскрытие в искусстве «сущности» человека через изображение секса, инцеста, аморальных и преступных влечении в самых разнообразных вариантах.
Из учения Фрейда закономерно следуют: природная асоциальность человека; оправдание эгоистической агрессии вообще, войн в частности; оправдание социального неравенства. Все это, по Фрейду, — проявления неизменной человеческой «сущности», неизменного атавизма человека. Не случайно в «Лекциях по введению в психоанализ» Фрейд указывает, что «психология «Я» должна быть основана не на данных нашего самонаблюдения, а на анализе его болезненных нарушений и распада». Иначе говоря, именно в болезненных явлениях, а не в проявлениях сознательного «Я», раскрывается истинная сущность человека. Не случайно (в книге «Неблагополучие в культуре») Фрейд утверждает, что коммунизм — принципиально неосуществим, ибо «от уничтожения частной собственности... в главной сути ничего не изменится: останется не затронутым стремление человека властвовать над другими людьми и подавлять их». Не случайно, наконец, в ответ на предложение А. Эйнштейна (1932) выступить в защиту мира Фрейд писал, что «война, по-видимому, вполне естественная вещь, у нее, без сомнения, имеется прочная биологическая основа, и практически ее едва ли можно избежать».
Так фрейдизм оказывается всесторонней идеологической базой для модернизма. И благодаря учению Фрейда получают как бы «научное» обоснование самые реакционные модернистские идеи: от крайнего индивидуализма, утверждения иррационализма, неизбежности войн, эксплуатации человека человеком и т. п. — до возвеличивания секса и преступности.
Вместе с тем очевидно, что идеи Фрейда отнюдь не новы. Это, в сущности, идеи всего декаданса. Мы уже — в различных вариантах — встречались и с утверждением иррациональной природы творчества, и с господством в человеке «бессознательного», и с утверждением крайнего индивидуализма. Обо всем этом неоднократно писали и философы (Шопенгауэр, Ницше) и писатели (Э. По, Бодлер, западные и русские символисты). Да и сам Фрейд свою концепцию ведет непосредственно от Шопенгауэра.
Что же в заключение можно сказать о фрейдизме? Несомненно, инстинкты самосохранения и продолжения рода являются первоначальными не только у человека, но и во всем животном мире. Это общеизвестная истина. Из этого исходил еще Дарвин в учении об изменчивости, наследственности и естественном отборе. Но уже Дарвин объяснял изменчивость организмов окружающими материальными условиями и учил «смотреть на каждый сложный механизм или инстинкт как на длинный исторический итог полезных приспособлений». Во-вторых, изменения организмов были для Дарвина, по слову известного русского ученого К. Тимирязева, «образованием новых органических форм в сторону наибольшего их совершенства». Иначе говоря, Дарвин в самой природе (без помощи «бога» или метафизических домыслов), в бесконечных и сложных ее изменениях находил «такой процесс, который в человеческой истории обозначается словом — прогресс».
Г. В. Плеханов говорил по этому поводу, что «никому из материалистов никогда не приходило в голову отрицать то или другое из общеизвестных свойств человеческой природы или пускаться в произвольные толкования по ее поводу». Но, добавляет он, «если эта природа неизменна, то она не объясняет исторического процесса, который представляет собой сумму постоянно изменяющихся явлений. А если она сама изменяется вместе с ходом исторического развития, то, очевидно, есть какая-то внешняя причина ее изменений. И в том, и в другом случае задача выходит, следовательно, далеко за пределы рассуждений о свойствах человеческой природы».
Между тем, у Фрейда мы как раз встречаемся с неизменной «природой человека», изъятой из объективно-изменчивой действительности, из социально-исторического окружения прежде всего. Иначе говоря, мы имеем здесь дело с некоей метафизически неподвижной, косной и, по существу, болезненной «природой» человека.
Марксизм отрицает такую «концепцию человека». «Великая научная заслуга Маркса, сущность всей его исторической теории, — справедливо пишет Плеханов, — заключается в том, что он... на самую природу человека взглянул как на вечно изменяющийся результат исторического движения, причина которого лежит вне человека. Чтобы существовать, человек должен поддерживать свой организм, заимствуя необходимые для него вещества из окружающей его внешней природы. Это заимствование предполагает известное действие человека на эту внешнюю природу». Но, «действуя на внешнюю природу, человек изменяет свою собственную природу».
В одном из примечаний «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Плеханов пишет: «Буржуазные писатели, ссылаясь на Дарвина, в действительности рекомендовали своим читателям не научные приемы Дарвина, а только зверские инстинкты тех животных, о которых у Дарвина шла речь». Фрейд, ссылаясь на научность своих приемов и на первичные инстинкты, из которых исходил и Дарвин, в сущности и приписывает человеку лишь одни, якобы неизменные, «зверские инстинкты». Марксисты же, ни в какой мере не отрицая общеизвестные истины о роли инстинктов, апеллируют не к неизменным звериным началам, а к той постоянно изменяющейся «природе» человека, которая формируется конкретным объективным бытием. «Сущность человека — совокупность всех общественных отношений», — так сформулировал эту мысль Маркс. «Человек со всеми своими мыслями и чувствами, — пишет Плеханов, — есть продукт общественной среды».
Фрейдовская «концепция человека», которую приняли на вооружение модернисты, это, в сущности, очень примитивная схема, крайне обедняющая, а заодно опорочивающая человека. Подлинная, сложная личность как «совокупность всех общественных отношений», человек, отражающий в своем сознании духовную жизнь эпохи, ее борьбу, достижения, заботы, беды, стремления, — все это нивелируется и сводится к одному сексу. И в этом смысле фрейдизм по самой своей сути противопоказан искусству, ибо уводит художника от бесконечно богатого мира в темные закоулки косного, первобытного подсознания.
Экзистенциализм как философское течение возник после первой империалистической войны (К. Ясперс. Психология мировоззрений, 1919; М. Хайдеггер. Бытие и время, 1927). Широкое распространение он получил в тридцатых—сороковых годах, когда нашел также свое воплощение в художественной литературе, главным образом, у французских писателей (Сартр, Камю, Симона де Бовуар).
Человеческий интеллект, разум, наука, дискурсивное мышление вообще — утверждают экзистенциалисты — неспособны познать бытие. «Научное познание, — пишет Ясперс в книге «Истина и наука» — не есть познание бытия. Научное познание не может указать целей для жизни...»
О том же говорит Хайдеггер, проводя резкое различие между «объяснением» и «пониманием» вещей. «Объяснение», по Хайдеггеру, дело естественных наук и дискурсивного мышления, определяющих один предмет через другой, по причинной связи. Но все это оставляет нас в эмпирическом мире, не проникая в смысл происходящего. Смысл же может быть постигнут только интуицией, «феноменологическим» путем, непосредственным видением «феноменов», когда вещи «сами себя обнаруживают» в своем истинном бытии.
В свою очередь, и Сартр утверждает тот же «феноменологический метод» познания и то же интуитивное постижение «феноменов». Так экзистенциалисты приходят к особому, «истинному» познанию посредством «экзистенции», иррациональной «интуиции», постигающей то, что недоступно разуму. Что это за «экзистенция»?
Прямой смысл слова—«существование». Но существование, заявляют экзистенциалисты, это то, что и дано нам, как наше непосредственное собственное существование. Это есть, стало быть, первичное истинное «бытие-для-себя», как определяет его Сартр, оно творит само себя. Предметный же мир, предметная реальность, или, как называет ее Сартр, «бытие в себе» — это вторичное явление.
Дискурсивное мышление в понятиях овеществляет мир, представляя его как некий объект. Сам человек при этом мыслится как вещь. Задача экзистенциалистов заключается в том, чтобы преодолеть это овеществление человека и мира, научиться видеть мир не «извне», а «изнутри», через собственную «экзистенцию», которая не может быть объективирована. «По мнению Ясперса, экзистенция неуловима для разума, ее схватывает только экзистенциальное «озарение», родственное мистическому созерцанию... Экзистенция является как бы окном, через которое к нам доходит свет иного, непредметного бытия».
Из этой основной агностической предпосылки, трактующей разум и постигаемый им предметный мир как мир «неподлинного бытия», закономерно вытекает экзистенциалистская оценка окружающей действительности как хаоса, «абсурда», уродующего природу человека, его «экзистенцию».
Однако обезличивает человека не только «повседневность», но и весь предметный мир, в том числе — общественные взаимоотношения, политические партии, государственные установления, а также наука. Весь объективный материальный мир оказывается «неподлинным миром», «небытием». Это мир «абсурдный», где, по определению Сартра, человек — «хрупкое создание, затерянное в горестном океане конечного, одинокое и немощное, на которое в каждое мгновение обрушивается небытие». Материальное «бытие-в-себе» — это вязкое, густое, бродящее месиво, утверждает Сартр. Оно «вечно угрожает схватить маня в ловушку», это «бытие для смерти». И здесь поэтому все абсурдно: «Абсурдно то, что мы родились, абсурдно то, что мы умрем» («Бытие и небытие»). Камю об этом говорит так: «В мире есть только бичи человечества и их жертвы, и ничего больше».
Экзистенциалисты утверждают, что, лишь покинув мир повседневности и руководствуясь исключительно «интуицией», внутренним голосом своей «экзистенции», то есть лишь в субъективно-моральной области, может человек освободиться от власти отчуждения и ощутить, наконец, свою собственную «свободу». Сартр определяет это, как «свободу в ничто», то есть вне реального мира вещей и социальных связей, вне объективной закономерности вообще. Иначе говоря, это свобода личности «не от мира сего», о чем (отметим кстати) говорил еще полвека назад нынешний экзистенциалист, а в прошлом юродствовавший во Христе идеалист Н. Бердяев: «Я действительно думаю и верю, что из природного мира может быть выход в сверхприродное». А путь к пробуждению экзистенциалистского «сознания», согласно этой философии, — страдания. По мнению экзистенциалистов, люди постоянно чувствуют ужас смерти, как бы неизменно пребывают перед ее лицом. Сартр пишет о пожизненной тревоге, порождаемой «тенью смерти», и самое существование определяет как «бытие для смерти».
Религиозные экзистенциалисты (Ясперс, Бердяев) находят, в конечном счете, «истинное» сознание и «истинную» свободу человека в религии, в «боге» и, соответственно, в различных религиозно-мистических «прозрениях». Недаром Бердяев предлагал вернуться для спасения человечества к духовной диктатуре церкви («Новое средневековье»). У атеистических экзистенциалистов «свобода» человека приобретает иные формы.
Так, у Камю — в «Мифе о Сизифе» — человек осужден на извечный бессмысленный труд. Он — пролетарий, обреченный богами на жизнь в абсурдном мире. Но при этом, по Камю, человек осознает бессмысленность таких порядков, возмущается ими и глубоко презирает за них богов. Понимание своего положения, нахождение в этих условиях некоторых форм «возмущения» — вот что составляет «свободу» человека. Более того, так открывается перед ним даже возможность своеобразного «счастья». Разумеется, счастье это — особое, тоже абсурдное. Но, очевидно, иного и не может быть там, где «счастье и абсурд — два сына одной земли» (Камю).
Художник, по Камю, может, в лучшем случае, лишь выражать «возмущение против мира», а искусство может лишь «вечно возобновлять разрыв» между миром и «экзистенцией». Иначе говоря, и эта, казалось бы, наиболее плодотворная форма экзистенциалистского осознания «свободы» остается в том же субъективном мире, не будучи в состоянии ничего изменить в существе «абсурдного мира». Поэтому Камю, приветствующий аботрактно-метафизическое «возмущение» художника, решительно отвергает реальное «возмущение» революционеров, то есть осуществление свободы человека в реальном революционном действии: это для него — деятельность преступная, приводящая лишь к увеличению «числа каторжников и мучеников на нашей планете» («Возмущенный человек»).
С точки зрения экзистенциалистов бессмысленным и невозможным оказывается реализм как метод образного познания закономерностей объективного мира. Для них это — заранее обреченная попытка выявить закономерности «абсурда». Камю поэтому и заявляет, что вообще не уверен, «возможен ли реализм, даже если он желателен... Единственным художником-реалистом был бы, если бы он существовал, бог». Смысл замечания, очевидно, в том, что только «бог» мог бы найти какой-то смысл и какие-то закономерности в «абсурде».
Искусство же, в лучшем случае и в лице «великих художников» — это «уравновешение реальности и отказа, который человек противопоставляет этой реальности». Иначе говоря,— это выражение все той же «возмущенной» экзистенции.
Поколение писателей-экзистенциалистов духовно оформилось в чрезвычайно сложную эпоху. Камю говорит, что «это люди, которые родились в начале первой мировой войны, которым было двадцать лет в момент, когда одновременно утверждалась власть гитлеровцев и устраивались первые революционные процессы; которые затем, завершив свое воспитание, столкнулись лицом к лицу с войной в Испании, второй мировой войной, концентрационными лагерями, с Европой пыток и застенков».
Воспитываясь в условиях господства капиталистических отношений и буржуазной идеологии, поколение это усвоило, в основном, реакционные взгляды на пролетарскую революцию и поэтому оказалось между двух, одинаково неприемлемых для них, миров: преступно-агрессивного империализма и строящегося в чрезвычайно трудных условиях острейшей классовой войны социализма. Так с самого начала возник у экзистенциалистов взгляд на окружающую действительность как на абсурдную и жестокую. В этом трагическом беспутье они открыли единственное, как казалось им, спасительное начало: «собственное «Я», «экзистенцию».
История, однако, противостояла такому иллюзорному решению проблемы как жить и по какому пути идти. Жестокие уроки величайших событий, на которые указывает Камю, — империалистические и революционные войны, лагеря смерти, утверждение социалистического мира — все это не могло не сказаться на развитии писателей-экзистенциалистов.
Некоторые из них оказались под влиянием новых идей, правды социалистического мира, постепенно, в большей или меньшей мере, изменяя свои взгляды. Так Сартр пытается соединить экзистенциализм с марксизмом. Так Симона де Бовуар, преодолевая субъективистски-пассивистические позиции, «находит выход из тупика экзистенциализма, — как пишет исследовательница французской литературы — в утверждении активного вмешательства в жизнь», а в плане художественном — в приближении к реализму, отражающему правду объективного хода истории.
Однако нас (в связи с основной темой — русский символизм и западный модернизм) в первую очередь интересуют художники, последовательно воплощающие мировоззрение экзистенциализма. И в этом отношении особого внимания заслуживает Камю (по словам Е. М. Евниной — «наиболее показательная фигура современного модернизма») и его романы «Чужой» и «Чума». В них экзистенциалистская концепция человека, его жизни, его свободы, концепция мира в целом возникает с наибольшей отчетливостью. Причем два центральных героя этих романов — Мерсо и Риё — воплощают собой два различных варианта возможной в абсурдном мире «свободы».
Роман «Чужой» написан одновременно с «Мифом о Сизифе». Мерсо и является художественным воплощением сизифовского варианта существования. Это человек, признавший факт нерушимого господства абсурдного мира, но противопоставляющий ему равнодушие. Этим он выражает свое презрение и свои протест. Равнодушие, таким образом, дает Мерсо возможность сохранить свою личную «свободу» и даже, подобно Сизифу, «счастье».
Такова, коротко говоря, «концепция человека» в «Чужом». Отсюда и само название романа: «L'etranger» по-французски означает и «равнодушный, безучастный, посторонний, непричастный», и «чужой»: чужой этому бессмысленному миру; отсюда — и все поведение, вся жизнь Мерсо, как она представлена Камю.
Мерсо — здоровый молодой человек, французский служащий в Алжире. Но в отличие от окружающих его людей, добивающихся карьеры, любви, семьи, Мерсо ничем не интересуется и ничего не хочет. Он ко всему безучастен. Мерсо предлагают переехать на работу в Париж: это открыло бы возможности служебной карьеры. Он отвечает, что у него «нет особого желания менять свою жизнь». Мерсо спрашивают, не желает ли он вообще переменить образ своей жизни на жизнь более интересную. Он отвечает: «По существу, мне это совершенно безразлично... Жизнь никогда не меняют, одно так же хорошо, как другое».
У Мерсо умирает мать, казалось бы, единственный кровно близкий человек. Он и к этому относится совершенно безразлично. «Сегодня умерла моя мать. А может быть, вчера? Я не знаю», — этими словами начинается книга.
Красивая девушка Мари, возлюбленная Мерсо, спрашивает, хочет ли он на ней жениться, любит ли ее. Мерсо отвечает: «Это совершенно неважно, если она хочет, могли бы пожениться».
Во время загородной прогулки Мерсо, находясь в тяжелом и почти бессознательном состоянии, убивает человека. Но и убийство не нарушает его равнодушия, не вызывает никаких переживаний, даже естественного, казалось бы, раскаяния. По его собственным словам, он вообще «вряд ли может в чем-либо раскаиваться».
Оказавшись в тюрьме, Мерсо и к этому относится безразлично. Тюремная жизнь, полагает он, не хуже любой другой. Наконец, осужденный к смертной казни, Мерсо и приговор встречает равнодушно, не испытывая даже неприязни к судьям, которые ни в чем не разобрались и судили по логике абсурдного мира, представив незлобивого тихого человека законченным извергом.
Несомненно, с точки зрения жизненной реальности Мерсо — образ парадоксальный, вряд ли возможный. Но зато он вполне соответствует «сизифовской» схеме человека. В «Чужом» воплощена экзистенциалистская «свобода» личности, достигаемая через «равнодушие», и оказалось, что вместе с этой «свободой» утверждались индивидуализм и аморальность.
Жестокие исторические уроки — вторая мировая война, нашествие гитлеровцев на Францию — заставили писателя отойти от таких позиций. Приняв активное участие в рядах французского Сопротивления, пройдя через гитлеровские застенки, Камю убедился, что индивидуализм, равнодушие, аморализм (как бы воочию демонстрировавшиеся варварством чернорубашечников) не могут противостоять «абсурдному миру», это его родные детища. Так возникает у Камю новый вариант экзистенциалистской «свободной личности»: личности, сочувствующей людям, стремящейся помочь им, сознающей свой долг перед ними. В образе Риё из «Чумы» дан этот новый вариант экзистенциалистской «свободы».
Эпиграфом к роману Камю взял слова Дефо: «Изображать то, что действительно существует, с помощью того, что не существует». И вот перед нами фантастический город Оран, город, где господствуют рутина, привычки и где сознание людей сформировано инертно-материальным миром и практическими нуждами. Город охвачен эпидемией чумы, и люди подвержены бесконечным страданиям и смерти. Вся их жизнь предстает как бессмысленная мука. Но это, по Камю, и есть «действительно существующее». «Образом чумы,— писал Камю,— я хотел передать обстановку удушья, от которой все мы страдали, атмосферу угрозы и изгнания, в которой мы жили. Одновременно я распространяю его значение до понятия существования в целом».
Так «существование в целом» оказывается все тем же жестоким и абсурдным миром, в котором люди ничего не могут понять и где страдания приходят неизвестно когда и откуда. Неизвестно поэтому, откуда пришла, когда уйдет и чума. Когда же чума затихает, Риё, врач по профессии, замечает: «Бацилла чумы никогда не умирает и не исчезает... Придет день, когда чума снова разбудит своих крыс».
Еще ужаснее то, что люди не знают, как бороться с окружающим их злом и страданиями, что у них нет никаких средств для этого, что бессильна и наука. Некомпетентные люди могут, разумеется, считать, что чуму победила медицина. Но Риё, как врач, знает, что это не так, что и здесь все случайно, гадательно, абсурдно. То, что «вчера не приносило никаких плодов, — отмечает Риё, — сегодня, по-видимому, оказалось успешным». А «по правде сказать, трудно было судить, идет ли речь о победе... Создавалось впечатление, что болезнь истощилась сама собой или, может быть, отступила, достигнув своих целей». Человеческий разум, стало быть, совершенно бессилен, и у природы есть свои тайны, неведомые людям: «свои цели»...
По воле Камю Риё живет в жестоком и абсурдном мире и его ждет «нескончаемое поражение». В чем же в этих условиях заключается его «свобода»?
В основном это та же иллюзорная, чисто субъективная свобода, что у Мерсо: комплекс личных переживаний, которые свидетельствуют, что он отчетливо сознает абсурдность окружающего мира, глубоко его презирает и не принимает. Но вместе с тем — в отличие от Мерсо — для него оказывается выходом уже не равнодушие, а другая, более сложная «экзистенция» души. Сущность этого «другого» обусловливается тем, что Риё во всем своем поведении руководится новым принципом: принципом этическим.
Этические категории, вообще говоря, — неразрывно связаны с общественностью, с жизнью людей и ставят прежде всего, какие бы формы они ни принимали, вопрос об отношении к человеку. Лишь у солипсиста не возникает этических проблем, ибо для него нет человечества: есть только «Я» и его произвол. «Равнодушие» Мерсо, будучи формой крайнего субъективизма, и было, собственно, проявлением несколько прикрытого солипсизма. Поэтому Морсо и не знал «раскаяния», не понимал вообще преступности совершенного им убийства.
Риё, наоборот, очень чутко переживает страдания людей и стремится им помочь. Абсурдный мир он и не принимает именно потому, что мир этот приносит людям ничем не оправданные страдания: «Я отказываюсь возлюбить это творение, где дети подвергаются пытке». И вопреки даже бессмысленности (как он считает) своей борьбы с чумой Риё тем не менее находит необходимым облегчать страдания людей: «Когда видишь кругом несчастье и горе, которые приносит чума, нужно быть безумцем, слепым или трусом, чтобы ей покориться». «Я защищаю людей, как могу, и это все... Я просто не могу привыкнуть к тому, чтобы видеть умирающих. Большего я не знаю». Свой долг, свою «честность» врача и человека Риё видит в борьбе за здоровье людей: «Здоровье человека — вот что меня интересует, здоровье в первую очередь». А в конечном счете вся его деятельность и целеустремленность в его собственных глазах есть лишь простое проявление человеческой сущности: «Быть человеком — вот что меня привлекает».
Камю считает и себя, и писателей-экзистенциалистов подлинными гуманистами. По его мнению, именно они противостоят безнравственности, «несвободе» и несправедливости «нигилизма», куда он относит не только «мир торгашей», но и социалистическое общество. «Защитники жизни», которые «отвергли нигилизм и продолжали искать справедливость», которые «сегодня вынуждены растить людей и работать в мире, находящемся под угрозой атомного разрушения», — вот кто такие, по Камю, писагели-экзистенциалисты.
Гуманистом считает Камю и Сартр. В некрологе о нем Сартр объявляет Камю наследником давних гуманистических традиций. Он объявляет, что его (Камю) «упорный гуманизм вел... битву против уродливых и сокрушительных событий нашего времени и укреплял в сердце нашей эпохи, вопреки маккиавелистам, вопреки золотому тельцу практицизма, существование нравственного начала».
Действительно, нельзя отрицать, что «гуманизм», если понимать под этим лишь определенную систему взглядов, борьбу за замкнуто субъективную «свободу» человека, за право на духовное его самоопределение, — нельзя отрицать, что такой «гуманизм» всегда защищался Камю. Уже Мерсо своим «равнодушием» отстаивал свою «свободу», выражал свой протест против уродования человека абсурдным миром. Еще в большей мере это относится к Риё, который отстаивал уже не только свою личную «свободу», но и моральную свободу человека вообще, как «достойную уважения».
Однако в обоих случаях речь идет именно о системе взглядов, о «свободе» личности в ее собственном сознании, вне связи с широкой социальной практикой. Причем бессилие такой «свободы» подчеркнуто неизбежным «бесконечным поражением». В лучшем случае, как в «Чуме», речь идет о нравственном стоицизме и моральной чистоте отдельных личностей.
Но ведь объективно это означает, что даже лучшие люди, типа Риё, заведомо ничего не могут изменить в этом мире. Империалистические войны, капиталистическое рабство, обесчеловечение человека собственническим строем, нищета народов — все это оказывается роковым образом неизменным, установленным навечно. И даже осознание людьми своей благородной нравственной «экзистенции» оказывается бессильным: это может принести моральное утешение отдельным людям, возможно, даже несколько уменьшит количество страданий, но бытие навсегда останется бессмысленным и жестоким. И совершенно очевидно, что в реальных исторических условиях, и тем более в решающую эпоху борьбы социализма с капитализмом, такая позиция реакционна. Ею фактически утверждается, что борьба за изменение действительности не только бессмысленна, но и вредна: такая борьба может привести лишь к новым ненужным жертвам (о чем в своих речах не раз и говорит Камю).
Так обнажается внутренняя противоречивость гуманизма Камю. Субъективно он, несомненно, стремился к утверждению справедливости, свободы человека, добра. Но объективно гуманизм этот обернулся реакцией, антигуманизмом, утверждением неизменности несправедливого и античеловечного мира. Впрочем, у русских символистов мы уже встречались с тем же: субъективно они сознавали себя «гуманистами» и даже «революционерами», объективно же были глубоко реакционны. И подобно экзистенциалистам и Камю русские символисты тоже уходили от реальной истории в мир духовной «правды», в «экзистенцию» души, правда, на свой метафизически-мистический манер.
Нет ничего неожиданного, что, оставаясь верны
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Витражи Тиффани - технология работ
С.А.СиваковНемного историиВитражи Тиффани названы так в честь знаменитого американского декоратора Луиса Тиффани (1848-1933г.г.), одного из
- Музей-заповедник А.С.Пушкина: Болдино
Л.М.Задоркина В последнее утро августа 1830 года Пушкин покидает Москву. Быстрая езда, привычные дорожные картины:...Кони мчатсяТо по горам,
- Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов
И. Я. БогуславскаяСреди многих проблем современного народного искусства проблемы традиций едва ли не самые существенные и сложные. Они
- Искусство XVIII века в Западной Европе
А.С.ГривнинаВосемнадцатое столетие в Западной Европе представляет собой переходную эпоху от абсолютной монархии в ряде стран к буржуаз
- Федот Иванович Шубин
Н.А.ЯковлеваВ 1918 году Совет народных комиссаров утвердил список деятелей, которым предполагалось в первую очередь возвести памятники, п
- Деятели искусства о назначении своего творчества
Смирнов В. Л. Обратимся к размышлениям разных деятелей искусства о назначении художественного творчества, об общественном смысле своег
- Социальные аспекты художественно-религиозной целостности
Е.Г.ЯковлевНа социальном уровне эта внутренняя противоречивость обнаруживалась в том, как искусство и религия относились к человеку, иб
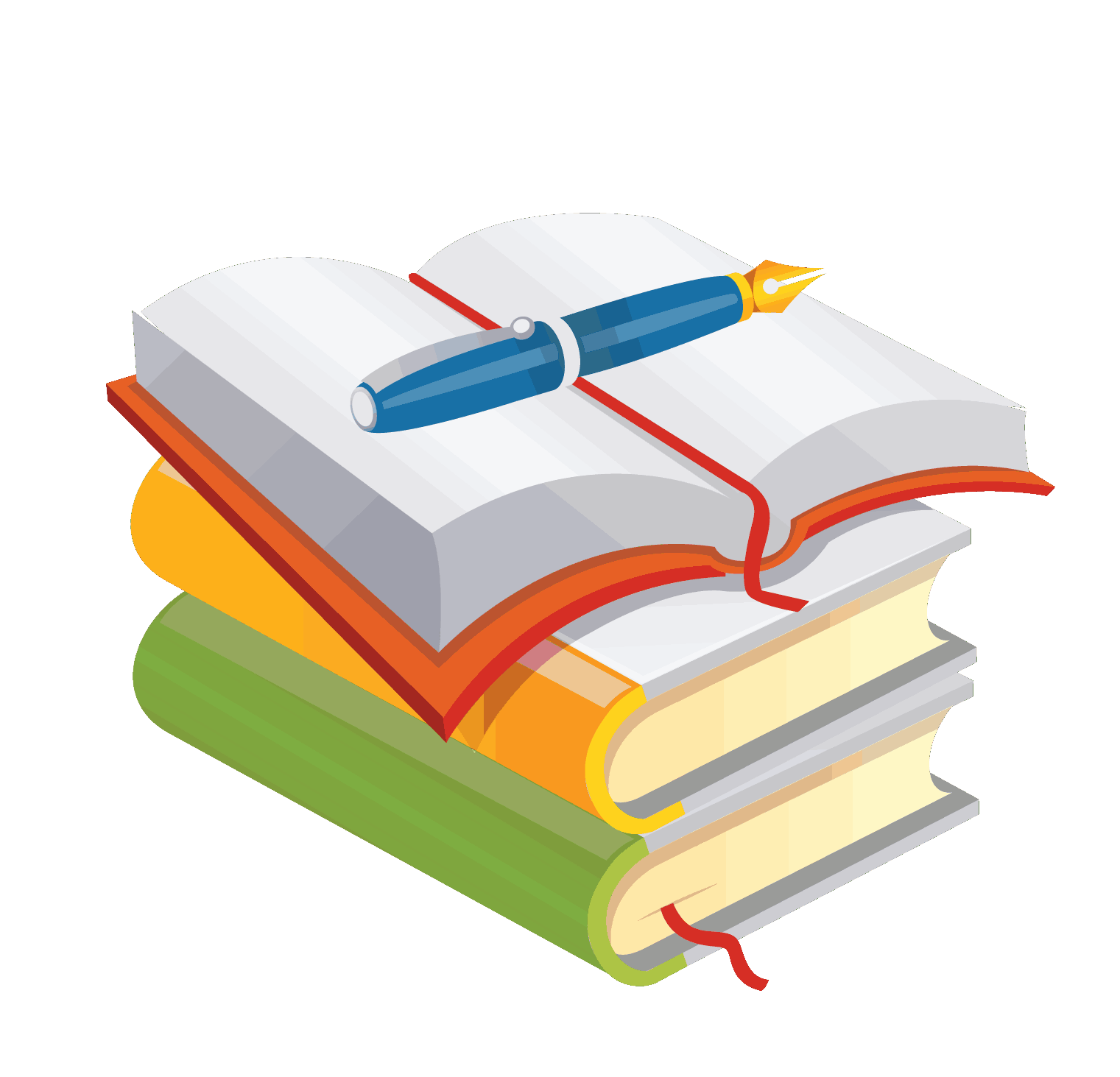 www.referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
www.referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.