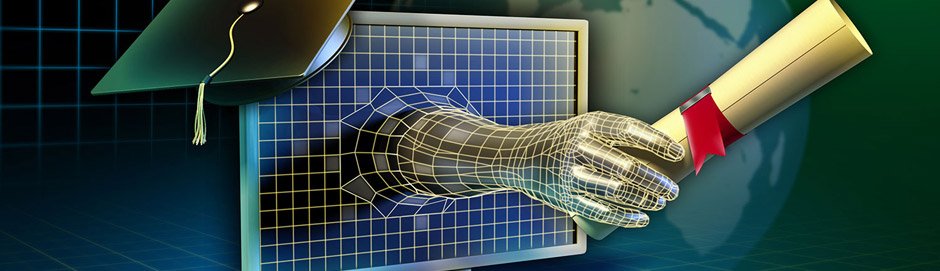Художественное своеобразие "русских романов" В. Набокова
Творческое наследие Владимира Набокова критики наделяют разнообразными щедрыми, подчас мало что проясняющими эпитетами: «выдающийся стилист», «русско-американский писатель», «экзистенциально-элитарный романист», «феномен».
В современной «набоковиане» бытуют различные подходы: Набоков как творец металитературы; основа творчества Набокова составляет эстетическая система, вырастающая из интуитивных прозрений трансцендентальных измерений бытия; рассмотрение творчества Набокова с позиции экзистенциональных сил автора; Набоков как субъект словесной игровой деятельности (в пределах объективизации экзистенциональной сферы автор задает свои правила игры, свою парадигму художественного мышления, согласуемую со средством деятельности - поэтическим языком).
В 1926 году выходит первое прозаическое произведение В. Набокова «Машенька». Вслед за «Машенькой» появились «Король, дама, валет» (1928), «ЗащитаЛужина» (1930), «Подвиг» (1932), «Камера обскура» (1933), «Отчаяние» (1934), «Приглашение на казнь» (1936), «Дар» (1938). Девятый роман, написанный в Европе по-русски, «Solux Rex», остался незавершенным, опубликованы были лишь две главы, причем в качестве самостоятельных произведений.
Критики разделили «русские романы» на две группы. К первой относят романы «Машенька», «Подвиг», «Дар». В них сюжет основывается на автобиографическомматериале. Набоков делится с героем своим собственным опытом или наделяет его той же профессией.
Вторую группу составляют романы «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Камера обскура», «Отчаяние». Описанные в них ситуации условны. Автор вступает в откровенную игру с читателем, предлагая то цветовое очарование («Король, дама, валет»), то конструируя шахматные партии и крестословицы («Зашита Лужина»), то анализируя разные психологические состояния («Камера обскура» и «Отчаяние»).
Названные романы, по мнению большинства исследователей, являются моделями всей прозы Набокова, в них предзаданы главнейшие особенности его сюжетики и поэтики. Их главным качеством является единство, стилевая «слаженность». Набоков легко и непринужденно владеет темами, причудливо и прихотливо выворачивая и поворачивая сюжеты. Какими бы изворотливыми, сложными или, напротив, нарочито простыми ни виделись сюжетные ходы, их всегда направляет четкая и последовательная воля автора. Именно автор организует и ведет даже внутренние мысли героев. В романах есть скрытая закономерность ходов мастера и причудливость шахматных комбинаций. «Русские романы», в особенности «Машенька» и «Защита Лужина», являют собой образцы нового искусства и в то же время представляют пример оригинального сложного, порой парадоксального, использования реминисценций из классической русской и зарубежной литературы.
Набоков не только наследовал традицию - он совершил переворот в читательском восприятии художественного текста. Литература XIX века редко поднимала покров над тайной искусства: на «видимом» уровне своих творений авторы давали читателям «уроки» нравственности, «объясняли» жизнь в ее социальных, духовных или мистических проявлениях, а эстетические эксперименты скрывали в глубинных, подтекстовых слоях произведения, оставляя утонченное наслаждение от «угадывания» оригинальных художественных решений читателю «посвященному». В классических текстах поэтические средства воздействуют на подсознаниечитатели, заставляя его плакать, негодовать или восторгаться, наивно переживать перипетии сюжета и сопереживать героям.
Набоков, напротив, намеренно обнажая игровоеначалов поэтике и подчеркивая «сделанность» своих книг, требует от читателя сознательныхусилий, интуитивных и интеллектуальных, для проникновения за поверхностный поэтический слой - в этический и философский смысл произведения. Если понимание поэтических приемов обогащает восприятие классического произведения, позволяет проникать в его «тайные» смыслы, то чтение набоковских текстов вообще невозможно без осмысления всех тонкостей и хитростей их поэтической структуры.
Но Набоков с трудом вписывается в какую-либо из известных стилевых формаций. Поэтика Набокова, строго говоря, не является ни игровой, ни модернистской, ни постмодернистской. Однако элементы различных стилевых формаций присущи творчеству Набокова в той или иной мере. Исследователь М. Медарич утверждает, что «на уровне поэтики стилевые признаки его текстов гетерогенны, совокупность этих признаков невозможно определить как черты определенной формации. На уровне поэтики мы не можем найти высказывания писателя о чувстве принадлежности к какой-либо существующей литературной поэтике» (36, с. 455).
Если проследить хронологическую эволюцию литературного стиля в прозе Набокова, мы заметим у него постоянное развитие и совершенствование приемов, а также раннее проявление «экспериментальных» тенденций. Это, по мнению Медарич, указывает на существование единой модели «синтетической прозы» (36, с. 455).
Так, в романах «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Камера обскура», «Отчаяние» отмечается сходная тенденция к деперсонализации персонажа, в то время как авторское «я» играет все более важную роль. По мнению М. Липовецкого, в романах Набокова повествуется о самой модели повествования (35, с. 79). Проза сконцентрирована на феноменологических свойствах литературы и исследует сущностную природу словесного творчества. Данный род саморефлективного повествования может быть назван «метапрозой» (22, с. 128). Набоков создает бесконечный монороман, в котором главные герои суть духовные близнецы автора. П. Бицилли пишет: «Похоже на то, что мир, в котором живут герои В. Сирина, – это мир самого автора» (11, с. 42). Тема творчества у Набокова – это само творчество. Соглядатай, шахматист Лужин, собиратель бабочек Пильграм, убийца, от лица которого рассказано «Отчаяние», приговоренный к смерти в «Приглашении на казнь» – все это разнообразные, но однородные символы творца, художника, поэта.
При этом Набоков понимает язык как нечто наднациональное. На это указывал еще В. Ходасевич: «При тщательном рассмотрении Сирин оказывается по преимуществу художником формы, писательского приема... Сирин не только не маскирует, не прячет своих приемов... но напротив: Сирин сам их выставляет наружу, как фокусник, который, поразив читателя, тут же показывает лабораторию своих чудес. Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые, точно эльфы и гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя те декорации, в которых разыгрывается пьеса. Они строят мир произведения и сами оказываются неустрашимо важными персонажами. Сирин их потому не прячет, что одна из главных его задач – именно показать, как живут и работают приемы...» (64, с. 557). Например, роман «Ада» – это роман о художнике и процессе создания романа, а равно о литературных условностях и стиле прозы, проблеме времени и пространства. Роман «Машенька» – это повествование о времени и его субъективной природе, тем более что идеи того рода носились в философском воздухе времени. (А. Бергсон, М. Пруст). В этом отношении даже субъективность Набокова – объективна, т.е. она своеобразное порождение эпохи (Ф. Кафка).
Между тем отношение Набокова к своему веку особо, оно связано с иным пониманием природы времени, которое не является свойством материи, это своего рода код, с помощью которого возможно разгадать шифр, познать истинный смысл написанного. Таким образом, искусство для Набокова – способ связи с потаенными предметами бытия. Смысл искусства в системе представлений Набокова выше социальных, эстетических, и даже познавательных его функций, он онтологичен.
Набоковым также активно разрабатывается тема «уединенного Я», мотив двойничества, восходящий к романтической эстетике, что роднит писателя со Стендалем, Э. По, Гоголем, Уальдом и др. При этом данный мотив строится не только на противопоставлении индивидуума толпе, но и имеет архитипические соответствия. Именно этим объясняется множественность авторского «я». Здесь форма эмпиризма оказывается лишь вынужденной метафорой глобального изгнанничества человека, его утраты земного рая.
Художественная проза В. Набокова предстает современному исследователю исключительно ценным материалом для изучения проблемы взаимодействия внутри литературного процесса ХХ века эстетических ценностей ХIХ и ХХ вв., с одной стороны, и «русского» и «западного» культурных начал, с другой.
Развитие искусства в целом – процесс поступательный, процесс непрерывного обогащения. В литературе налицо как борьба, так и преемственность, захватывающая все сферы литературного творчества, его содержательный и формальный уровни. Литературный процесс – сложная система литературных взаимодействий, притяжений и отталкиваний. Новое, как правило, рождается не в результате разрыва с традициями прошлого, а связано чаще всего с их переоценкой и обогащением. Набокову, как никакому другому художнику слова удалось выразить «всечеловеческое в национальном» и сказать «русское слово о всечеловеческом». «И если на синхронном уровне он воспринял импульсы, идущие от современной ему западноевропейской литературы (от прозы Г. Гессе, Ф. Кафки, Х.Л. Борхеса, А. Роб-Грийе, Дж. Джойса, М. Пруста), то на диахронном – импульсы, шедшие от мировой литературы и предшествующих эпох» (67, с. 93).
В творчестве Набокова нашло выражение три ведущих универсальных проблемно-тематических компонента – тема утраченного рая, тема драматических отношений между иллюзией и действительностью, тема высшей по отношению к земному существованию реальности (метафизическая тема потусторонности). Кроме того, в творчестве Набокова активно разрабатывались собственная версия мистического реализма, внутренне сложно структурированная тема сновидческой реальности, полемически ориентированная на учение психоанализа З. Фрейда.
Актуальность работы определяется повышенным интересом к изучению творчества Набокова в современном литературоведении. Тема литературных перекличек, взаимодействия культур не может быть до конца осмыслена без обращения к творческому наследию Набокова. Его пограничное положение в литературе русской и англоязычной позволяет выявить наиболее значительные тенденции развития словесного искусства.
Творчество Набокова-сочинителя и исследователя оказалось в фокусе мирового литературного процесса. Писатель развивал стилевые тенденции различных литературных формаций, от романтизма до постмодернизма. Художественные тексты многих писателей были пропущены через призму его собственного мироощущения. Набоков расширил рамки понимания человеческого бытия в литературном процессе за счет своего собственного и воплотил это не только в содержательном плане, но и в плане создания собственной словесной формы.
Осмысление набоковского наследия не только представляет колоссальный научный интерес, но и крайне необходимо для многомерного развития современной литературы, ибо верное понимание самого духа набоковского творчества может быть полезным для создания и осмысления собственных литературных творений.
Цель нашей работы - изучить некоторые художественные особенности романов В. В. Набокова «Машенька» и «Защита Лужина».
Целью определяются задачи дипломного исследования:
1. Рассмотреть специфику организации художественного пространства в романе «Машенька».
2. Проанализировать особенности образности в произведении.
3. Изучить модернистские черты романа «Защита Лужина», в частности, двоемирие как основу композиции.
4. Исследовать ключевую метафору произведения «Жизнь - шахматная партия».
5. Сделать выводы по рассмотренным проблемам.
В своей работе мы опирались на монографии Александрова В. «Набоков и потусторонность: Метафизика, этика, эстетика», Анастасьева Н. «Владимир Набоков. Одинокий король», «Феномен Набокова», Букс Н. «Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах Владимира Набокова», Злочевской А. «Художественный мир Владимира Набокова и русская литература XIX века», Мулярчика А. «Русская проза Владимира Набокова», Ходасевича В. «Колеблемый треножник»; статьи Аверина Б., Гришаковой М., Левина Ю., Ерофеева В., Уховой Е., Яновского А.
Структура дипломногоисследования. Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, списка литературы.
ГЛАВА Ι. ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ РОМАНА «МАШЕНЬКА»
1. 1 Особенности организации художественного пространства в произведении
«Машеньку», свой первый роман (ставший последним из переведенных автором на английский язык), Набоков считал «пробой пера». Встречен роман был громкими аплодисментами. По окончании публичного чтения Айхенвальд воскликнул: «Появился новый Тургенев!» - и потребовал немедленно отправить рукопись в Париж, Бунину для последующей публикации в «Современных записках». Но издательство «Слово» уже 21 марта 1926 года, ровно через четыре месяца после того, как в рукописи была поставлена последняя точка, опубликовало роман. Первые рецензии отличались единодушно доброжелательным тоном. Впрочем, и сам Набоков чрезвычайно дорожил тогда этой книгой. Десятилетия спустя, в предисловии к английскому переводу повести, автор отзывался о ней с добродушным скепсисом: ностальгическая вещь, когда она писалась, еще были очень живы воспоминания «о первой любви», сейчас они, естественно, поблекли, хотя «я говорю себе, что судьба не только уберегла хрупкую находку от тления и забвения, по даровала мне возможность прожить достаточно долго для того, чтобы присмотреть за тем, как мумию являют свету» (46, 67).
Анализу «Машеньки» посвящен ряд работ современных отечественных и зарубежных ученых. Исследователи выделяли литературные ассоциации и реминисценции: «пушкинскую тему», переклички с Фетом, аналогии с Данте (Н. Букс). Были выявлены некоторые сквозные мотивы произведения: например, мотив тени, восходящий к повести Шамиссо «Удивительная история Питера Шлемиля», мотивы поезда и трамвая, мотив света, о которых пишет Ю. Левин. В. Ерофеевым была предпринята попытка включить «Машеньку» в концепцию метаромана.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает метод креативной памяти у Набокова. Набоков внес свой вклад в осознание роли памяти в художественном произведении. Память у него оказалась способна воссоздавать погибшие миры, их самые сокровенные детали. Система памяти в произведениях необычайно сложна. Е.Ухова отмечает у памяти Набокова «неомифологический признак: она щедро наделена атрибутами и полномочиями божества, ей дано античное имя – Мнемозина… Герой может очутиться в прошлом, как в другой стране: такую плотность и яркость в романном пространстве и времени память придает миру воспоминания. То здесь, то там Мнемозина погружает героев в волшебное циклическое время, где они находят все, что было правильно и что, казалось, потеряно навеки» (60, 160-161). Но демонстрируется не только созидающая, но и разрушительная сила памяти. Она ломает привычное время, она умеет обманывать и лгать, предавать и мучить. Воспоминания героев Набокова, несмотря на их живость, исключительную красочность и детальность, нередко оказываются ложными, и порой читатель слишком поздно это понимает. Такая память делает чтение активным и творческим процессом, сложной и увлекательной игрой.
Воспоминание выстраивает сюжет и определяет особенности поэтики первого романа Набокова «Машенька». Роману предпослан эпиграф из первой главы «Евгения Онегина»:
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь...
«Романы» здесь имеют двойной смысл: это любовные истории, но это и книги о любовных историях. Эпиграф приглашает читателя разделить воспоминание одновременно литературное и экзистенциальное. Первое и второе сцеплены неразделимо и заполняют собой все пространство текста. Сюжет воспоминания оттесняет постоянно ожидаемое возобновление любовного сюжета - пока не вытесняет его за пределы книги и жизни. Это обманутое читательское ожидание необходимо Набокову как способ резко провести черту между собственной поэтикой и традиционным рассказом о некогда пережитом прошлом, в которой воспоминание играет служебную, а не царственно-центральную роль.
Сюжет романа построен в виде «нестрогой рамочной конструкции, где вложенный текст - воспоминания героя, относящиеся к дореволюционному времени и периоду гражданской войны (время воспоминания) - перемешан с обрамляющим - жизнь героя в Берлине за конкретный промежуток времени, от воскресенья до субботы, весной 1925 года (романное время)» (33, 368). Прошлое «проходит ровным узором через берлинские будни» (47, 53).
В самой короткой - и, следовательно, существенно важной - третьей главе знаменательно не расчленены субъект и объект повествования. Какой-то русский человек как «ясновидящий» блуждает по улицам, читая в небе огненные буквы рекламы: «Неужели... это... возможно». Далее следует комментарий Набокова к этим словам: «Впрочем, черт его знает, что на самом деле играло там, в темноте, над домами, световая ли реклама или человеческая мысль, знак, зов, вопрос, брошенный в небо и получивший вдруг самоцветный, восхитительный ответ» (47, 53). Сразу затем утверждается, что каждый человек есть «наглухо заколоченный мир» (47, 53), неведомый для другого. И все-таки эти миры взаимопроницаемы, когда воспоминание становится «ясновидением», когда становится ясно видимым то, что казалось навсегда забытым.
В следующей главе герой романа Ганин «почувствовал, что свободен». «Восхитительное событие души» (читатель не знает, какое) переставило «световые призмы всей его жизни, опрокинуло на него прошлое» (47, 56).
С этого момента начинается повествование о самом процессе воспоминания. Рассказ смещается в прошлое, но оно воспроизводится как настоящее. Герой лежит в постели после тяжелой болезни в состоянии блаженного покоя и - одновременно - фантастического движения. Это странное состояние фиксируется многократно, через повтор, подобный рефрену: «лежишь, словно на волне воздуха», «лежишь, словно на воздухе», «постель будто отталкивается изголовьем от стены ... и вот тронется, поплывет через всю комнату в него, в глубокое июльское небо» (47, 57).
Тогда-то и начинает происходить «сотворение» женского образа, которому предстоит воплотиться только через месяц. В этом «сотворении» участвует все: и ощущение полета, и небо, и щебет птиц, и обстановка в комнате, и «коричневый лик Христа в киоте». Здесь действительно важно все, все мелочи и подробности, потому что «зарождающийся образ стягивал, вбирал всю солнечную прелесть этой комнаты и, конечно, без нее он никогда бы не вырос» (47, 58).
Воспоминание для Набокова не есть любовное перебирание заветных подробностей и деталей, а духовный акт воскресения личности. Поэтому процесс воспоминания представляет собою не движение назад, а движение вперед, требующее духовного покоя: «...его воспоминание непрерывно летело вперед, как апрельские облака по нежному берлинскому небу» (47, 58).
Что же возникло в памяти Ганина раньше: образ будущей/бывшей возлюбленной или же солнечный мир комнаты, где он лежал, выздоравливающий? По её ли образу и подобию создан этот мир или, наоборот, благодаря красоте мира угадывается и создается образ? У выздоравливающего шестнадцатилетнего Ганина в «Машеньке» предчувствуемый, зарождающийся образ «стягивает» в единое целое и переживание полета, и солнечную прелесть окружающего мира, и происходит это бессознательно, помимо его воли. У погружающегося в процесс воспоминания взрослого Ганина есть воля, есть закон. Чувствуя себя «богом, воссоздающим погибший мир» (47, 58), он постепенно воскрешает этот мир, не смев поместить в него уже реальный, а не предчувствуемый образ, нарочно отодвигая его, «так как желал подойти к нему постепенно, шаг за шагом, боясь спутаться, затеряться в светлом лабиринте памяти», «бережно возвращаясь иногда к забытой мелочи, но не забегая вперед» (47, 58). Значимой становится сама структура повествования, где резкие переходы из прошлого в настоящее часто никак не обозначены, не обоснованы, и читатель вынужден прерывать чтение в недоумении непонимания.
Иллюзия полного погружения Ганина в воспоминания столь глубока, что, блуждая по Берлину, «он и вправду выздоравливал, ощущал первое вставание с постели, слабость в ногах» (47, 58). И сразу же следует короткая непонятная фраза: «Смотрелся во все зеркала» (47, 58). Где? В Берлине или в России? Постепенно становится ясно, что мы в русской усадьбе, но затем вновь окажемся в Берлине.
В пятой главе «Машеньки» Ганин пытается рассказать свой лирический сюжет Подтягину, а тот, в свою очередь, вспоминает о своей гимназии. «Странно, должно быть, вам это вспоминать», - откликается Ганин. И продолжает: «Странно вообще вспоминать, ну хотя бы то, что несколько часов назад случилось, ежедневную - и все-таки не ежедневную - мелочь» (47, 63). В мысли Ганина предельно сокращен интервал между действительностью и воспоминанием, которое ежедневную мелочь может превратить в важный фрагмент пока еще не четко сформировавшегося узора. «А насчет странностей воспоминания», - продолжает Подтягин и прерывает фразу, удивившись улыбке Ганина. Откликаясь на его попытку рассказать о своей первой любви, старый поэт напоминает об избитости самой темы: «Только вот скучновато немного. Шестнадцать лет, роща, любовь...» (47, 64). Действительно, Тургенев, Чехов, Бунин, не говоря уже о писателях второго ряда, казалось бы, исчерпали этот сюжет. Неудачная попытка Ганина знаменательна. Ни монолог, ни диалог здесь невозможны. Нужна иная форма повествования. «Воспоминание в набоковском смысле непересказуемо, так как оно происходит при таком внутреннем сосредоточении, которое требует «духовного одиночества» (1, 160).
Не только герои Набокова погружены в воспоминание, но и читатель должен быть погружен в текст и во все его внетекстовые связи как в свое личное воспоминание. Необходимость перечитывания произведения Набокова, о котором писала Н. Берберова (10, 235), связана именно с этой особенностью. В самом простом бытовом варианте тексты Набокова можно представить себе как кроссворд. Отгадывающий его человек, найдя нужное слово, испытывает удовлетворение. Вообразим себе также попытку вспомнить нужное имя, дату или название - и удовлетворение, когда искомое наконец всплывает в сознании. То же самое испытывает человек, когда, например, открывает этимологию слова, или когда привычный факт обыденной жизни он вдруг осознает как имеющий сложную историю и определенный генезис, как обладающий собственной культурной аурой. Можно посмотреть на это и с другой точки зрения. Событие настоящего, событие только что произошедшее, вдруг может совсем по-новому высветить какое-то событие прошлого, казавшееся совсем незначительным. Или, более того: заставляет вспомнить то, что казалось навсегда забытым. Можно привести много подтверждений, но все они могут быть резюмированы формулой Платона: знание есть воспоминание. Тексты Набокова подчиняются ей вполне.
Набоков приглашает к тотальному воспоминанию, процессу воскресения личности, культуры и мира через память. Приведу такой пример. Алферов, говоря о России, называет ее «проклятой». Отрываясь от решения шахматной задачи и как бы между прочим, Ганин реагирует лишь на «занятный эпитет». Усмотрев в этом эстетизм, равнодушие к родине и гражданский индифферентизм (эмигрантская критика подобные упреки относила к самому Набокову), Алферов вспыхивает: «Полно вам большевика ломать. Вам это кажется очень интересным, но поверьте, это грешно с вашей стороны. Пора нам всем открыто заявить, что России капут, что «богоносец» оказался, как впрочем можно было ожидать, серой сволочью, что наша родина, стало быть, навсегда погибла» (47, 52). «Конечно, конечно», - охотно соглашается Ганин, чтобы уйти от разговора.
Слово «богоносец» по отношению к русскому народу прочитывается легко: Достоевский, «Бесы». Определение «проклятая», примененное к России, Ганин, скорее всего, соотносит с одним из самых известных стихотворений Андрея Белого «Родина» (1908), с поэтически сдвинутым в слове «проклятая» ударением - «проклятáя»:
Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой -
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?
Борис Аверин отмечает, что «актуализация подобных связей переводит разговор на совершенно иной ценностный уровень, чем тот, который доступен Алферову, и на который Ганин даже не считает нужным реагировать» (1, 162). Читатель Набокова должен быть погружен одновременно в воспоминания текста романа и его литературного контекста. Только перекрещиваясь друг с другом, эти воспоминания ведут к пониманию смысла.
Как же организованы эти два художественных пространства: «реальный» берлинский мир и «воображаемый» мир воспоминаний героя? «Реальное» пространство - это прежде всего пространство русского пансиона. В первых строках второй главы Набоков вводит сквозную метафору «дом-поезд»: в пансионе «день-деньской и добрую часть ночи слышны поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что весь дом медленно едет куда-то» (47,37). Метафора, трансформируясь, проходит через весь текст («Кларе казалось, что она живет в стеклянном доме, колеблющемся и плывущем куда-то. Шум поездов добирался и сюда, и кровать как будто поднималась и покачивалась» (47, 61)). Некоторые детали интерьера усиливают этот образ: дубовый баул в прихожей, тесный коридор, окна, выходящие на полотно железной дороги с одной стороны и на железнодорожный мост - с другой. Пансион предстает как временное пристанище для постоянно сменяющих друг друга жильцов - пассажиров. Интерьер описан Набоковым очень обстоятельно. Мебель, распределенная хозяйкой пансиона в номера постояльцев, не раз всплывает в тексте, закрепляя «эффект реальности» (термин Р. Барта). Письменный стол с «железной чернильницей в виде жабы и с глубоким, как трюм, средним ящиком» (47, 38) достался Алферову, и в этом трюме будет заточена фотография Машеньки («...вот здесь у меня в столе карточки» (47, 52)). В зеркало, висящее над баулом, о наличии которого также говорится во второй главе, Ганин увидел «отраженную глубину комнаты Алферова, дверь которой была настежь открыта», и с грустью подумал, что «его прошлое лежит в чужом столе» (47, 69). А с вертящегося табурета, заботливо поставленного автором при содействии госпожи Дорн в шестой номер к танцорам, в тринадцатой главе чуть было не упал подвыпивший на вечеринке Алферов. Как видим, каждая вещь прочно стоит на своем месте в тексте, если не считать казуса с «четой зеленых кресел», одно из которых досталось Ганину, а другое - самой хозяйке. Однако Ганин, придя в гости к Подтягину, «уселся в старом зеленом кресле» (47, 62), неизвестно как там оказавшемся. Это, говоря словами героя другого набоковского романа, скорее «предательский ляпсус», чем «метафизический парадокс», незначительный авторский недосмотр на фоне прочной «вещественности» деталей.
С описания интерьера комнаты в летней усадьбе начинает «воссоздавать погибший мир» и Ганин-творец. Его по-набоковски жадная до деталей память воскрешает мельчайшие подробности обстановки. Ганин расставляет мебель, вешает на стены литографии, «странствует глазами» по голубоватым розам на обоях, наполняет комнату «юношеским предчувствием» и «солнечной прелестью» (47, 58) и, повторно пережив радость выздоровления, покидает ее навсегда.
Пространство «памяти» - открытое, в противовес замкнутому в пансионе «реальному» пространству. Все встречи Машеньки и Ганина происходят на природе в Воскресенске и в Петербурге. Встречи в городе тяжело переживались Ганиным, поскольку «всякая любовь требует уединения, прикрытия, приюта, а у них приюта не было» (47, 84). Лишь последний раз они встречаются в вагоне, что было своего рода репетицией разлуки с Россией: дым горящего торфа сквозь время сливается с дымом, заволакивающим окно ганинского пристанища в Берлине. Подобная плавность перехода от одного повествовательного плана к другому - одна из отличительных черт поэтики «зрелого» Набокова.
Интересны детали, которые участвуют в создании оппозиции «реальность» (изгнание)/«память» (Россия). Некоторую параллель составляют аксессуары берлинского пансиона и комнаты ганинской усадьбы. Так, «воскрешенные» памятью картины на стенах: «скворец, сделанный выпукло из собственных перьев» и «голова лошади» (47, 57), - контаминируются в «рогатые желтые оленьи черепа» (47, 39), а «коричневый лик Христа в киоте» (47, 39) эмиграция подменила литографией «Тайной Вечери».
Ганин впервые встречает Машеньку на дачном концерте. Сколоченный помост, скамейки, приехавший из Петербурга бас, «тощий, с лошадиным лицом извергался глухим громом» (47, 66) - все это отсылает нас к эпизоду, когда Ганин вспоминает, как подрабатывал статистом в кино: «грубо сколоченные ряды», а «на помосте среди фонарей толстый рыжий человек без пиджака», «который до одури орал в рупор» (47, 49-50). «Именно этот эпизод на съемочной площадке вводит в роман один из центральных сквозных мотивов - «продажу тени», - пишет А. Яновский (69, 845).
Главная же линия «теней» проходит через все существование Ганина в берлинском его жилище - «унылый дом, где жило семь русских потерянных теней» (47, 39); за обедом «он не подумал о том, что эти люди, тени его изгнаннического сна, будут говорить о настоящейего жизни - о Машеньке» (47, 71); в автобусе «Подтягин показался ему тоже тенью, случайной и ненужной» (47, 105); запах карбида из гаража «помог Ганину вспомнить еще живее тот русский, дождливый август, тот поток счастья, который тени его берлинской жизни все утро так назойливо прерывали» (47, 81). И, наконец, подчеркнуто декларативная вершина: «Тень его жила в пансионе госпожи Дорн, - он же сам был в России, переживал воспоминанье свое, как действительность. Временем для него был ход его воспоминанья»; и далее: «Это было не просто воспоминанье, а жизнь, гораздо действительнее, ... чем жизнь его берлинской тени» (47, 73). Итак, окружающая реальная жизнь - сон, лишь обрамляющий истинную реальность воспоминаний. И только Машенька - его настоящая жизнь. Однако четкого противопоставления сон/явь в романе не возникает.
И только на последних страницах романа наступает двойное пробуждение, и все предыдущее оказывается «сном во сне». Замечательно, что этот поворот подготавливается снова с помощью «теней»: ранним утром Ганин выходит встречать Машеньку, и «из-за того, что тени ложились в другую сторону, создавались странные сочетания... Все казалось не так поставленным, непрочным, перевернутым как в зеркале. И так же, как солнце постепенно поднималось выше, и тени расходились по своим обычным местам, - точно так же, при этом трезвом свете, та жизнь воспоминаний, которой жил Ганин, становилась тем, чем она вправдубыла -далеким прошлым» (47, 110-111). Пока это только пробуждение от сна воспоминаний, ставящее реальное и нереальное на место, диктуемое здравым смыслом. Но тут же следует и второе пробуждение - от «страдальческого застоя» берлинской жизни: «И то, что он все замечал с какой-то свежей любовью, - и тележки, что катили на базар, ... и разноцветные рекламы ..., - это и было тайным поворотом, пробужденьем его» (47, 111). Новое впечатление - рабочие кладут черепицу - завершает процесс. «Ганин ... чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня... Но теперь он до конца исчерпал свое воспоминанье, ... и образ Машеньки остался вместе с умирающим поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминаньем.
И кроме этого образа, другой Машеньки нет, и быть не может» (47, 111-112).
Сказано с декларативной ясностью и прямотой - и все остается зыбким и сомнительным. Ясно только, что встреча прошлого и настоящего, «мечты» и «реальности» - то, чему был посвящен и к чему вел весь роман, - неосуществима. Но что же реально и что иллюзорно? «Реальный» роман с Машенькой оказывается иллюзией, «на самом деле» романом с нею были только четыре дня воспоминаний, и «реальна» не живая женщина, которая через час сойдет с поезда, а ее образ в уже исчерпанных воспоминаниях. «Трезвые» и «беспощадно ясные» декларации «пробудившегося» героя оказываются самой сильной апологией реальности именно воспоминания».
Тема реальности/нереальности повисает в виде типично набоковских качелей, совершающих в сознании читателя свои колебания от одной «реальности» к другой. Ю.Левин в «Заметках о «Машеньке» В.В.Набокова» пишет: «…роман представляет собой «семантические качели», где отрицаемое тут же, хотя бы скрыто, утверждается, и наоборот, - все же доминирующей темой является «несуществование», «ничто», «пустота», «отказ»; роман представляет собой апологию «ничто» и игру в «ничто» (33, 370).
«Настоящая» любовная связь (роман героя с Людмилой) скучна, неинтересна, тягостна, даже неестественна. Отсюда - отказ Ганина от Машеньки в тот момент, когда она говорит ему: «Я твоя. Делай со мной, что хочешь» (после этого «Ганин ... думал о том, что все кончено, Машеньку он разлюбил» (47, 86)). Наоборот, когда они год спустя случайно встретились на вагонной площадке, вели незначительный разговор и «она слезла на первой станции», то «чем дальше она отходила, тем яснее ему становилось, что он никогда не разлюбит ее», а позже, попав с волной эмиграции в Стамбул, «он ощутил, как далеко от него ... та Машенька, которую он полюбил навсегда» (47, 87): своеобразный вариант «любви к дальнему».
Того, что реально было, - как будто не было: «Он ... не помнил, когда именно увидел ее в первый раз» (47, 65); «Он не помнил, когда он увидел ее опять - на следующий день или через неделю» (47, 67). «Ничто», нереализованное - предвосхищения, воспоминания - бесконечно важнее и ценнее «реального». Кульминации романа наступают накануне знакомства с Машенькой и после окончательного отказа от нее, фабульно обрамляя роман героя. Первая: «И эту минуту, когда он сидел на подоконнике ... и думал о том, что, верно, никогда, никогда он не узнает ближе барышни с черным бантом на нежном затылке..., - эту минуту Ганин теперь справедливо считал самой важной и возвышенной во всей его жизни» (47, 67); вторая: «Ганин ... чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня (воспоминания), - эти четыре дня были, быть может, счастливейшей порой его жизни» (47, 111).
«В этой апологии «ничто», мечты, воспоминания - в соотнесении с пустотой и бессвязностью «реального» - можно видеть выражение специфически эмигрантского сознания» (33, 373-374).
Однако А. Долинин считает, что термин «качели» не вполне удачен. «Речь идет о спирально-круговом движении, которое связывается с ницшеанской темой «вечного возвращения» (20, 10). С этим положением нельзя не согласиться. Встречи в чужой усадьбе уже вводят тему отъезда, разлуки, сама усадьба - «перрон с колоннами», и приватность влюбленных нарушается.Затем следуют зимние скитания, телефонный разговор с вклинивающимся чужим голосом, неудавшаяся встреча и окончательное угасание любви. Новый поворот и подъем любви начинается со случайной встречи в поезде и последующей разлуки. В Крыму Ганин снова вспоминает начало любви, а все остальное кажется бледным, условным, ненастоящим и начинает его тяготить. Крым - это для берлинского Ганина «воспоминание в воспоминании». Повествование описывает «замкнутую спираль», так как в письмах Машеньки уже упоминаются поэт Подтягин и будущий муж Алферов - нынешние соседи Ганина по пансиону. Крымский период заканчивается бегством из России на юг, странствиями и приключениями.
Таким образом, прошлая реальность окончательно восстановлена, возвращена к жизни и находит свое продолжение в жизни берлинской: Ганин снова начинает жить ожиданием приключения, снова оставляет любимую женщину и совершает новый побег. Этот поворот вновь инт
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Художественный метод в творчестве Кафки
Курсовая работа: 37 с., 15 источников. Объект исследования данной работы является новелла "Превращение" и творчество Франца Кафки. Цель раб
- Художня своєрідність роману Ю. Мушкетика "Гайдамаки"
ДИПЛОМНАРОБОТАХудожня своєрідність роману Ю. Мушкетика «Гайдамаки»Зміст1. Вступ2. Історична основа і історія написання роману Ю.Мушк
- Цвет в жизни и творчестве Федора Михайловича Достоевского и Льва Николаевича Толстого как средство к пониманию самих писателей
Первый вопрос, возникающий в сознании умного человека, таков: что есть в звуке и цвете, что взывает к человеку? (Хазрат Иннайят Хан)Цвет
- Чудики в рассказах Шукшина
В современной русской литературе рассказы Шукшина остались неповторимым художественным явлением – оригинальной образностью и живой,
- Эволюции реалистического метода в творчестве Диккенса на примере романов "Приключения Оливера Твиста" и "Большие надежды"
Диккенс принадлежит к тем великим писателям, мировая слава которых утверждалась непосредственно вслед за появлением их первых произве
- Эволюция дуэльного кодекса в произведениях писателей XIX века: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева
Трудно представить себе быт и нравы России двух предреволюционных столетий без такого явления, как дуэль. Русская литература проявлял
- Экзістэнцыялізм
Змест:Уводзіны................................................................................................................3Раздзел І.............................................................................................
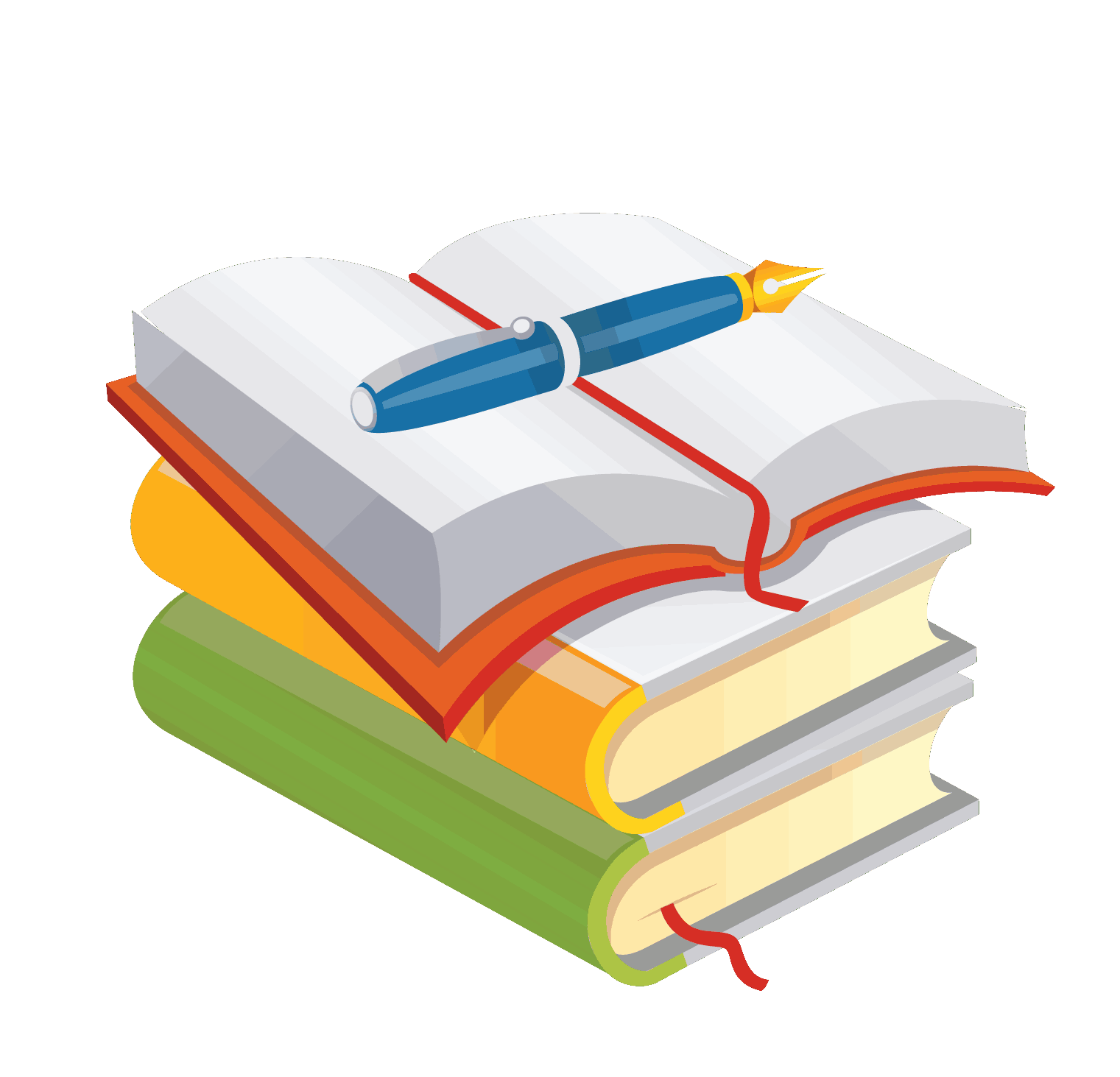 www.referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
www.referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.